Война и Победа глазами Николая Александровича Кутаркина
9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны – победа в Великой Отечественной войне! Советский народ одержал величайшую победу в истории всего человечества! К 75-летию победы в Великой Отечественной войне IZHLIFE возобновляет фотопроект «Лица Победы».
Расскажем о тех, кто пережил 1 418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Расскажем о тех, кто пережил 1 418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
93 года исполнилось электромонтажнику Николаю Александровичу Кутаркину, трудовая биография которого в течение 30 лет была связана с ИЭМЗ «Купол». Его судьба, как и, наверное, у многих представителей его поколения, многолика и резко переменчива. Стоит лишь только взглянуть на географию тех мест, где он жил: Алтайский край, подмосковное Тушино, Серпухов, Оренбургская и Читинская области, Баку, Москва и, наконец, Ижевск. То же и с профессиями: военный музыкант, слесарь, мастер по электрооборудованию, электромонтажник. В общем, есть о чем рассказать, о чем вспомнить.
Семья Кутаркиных была замечательной
Никто никогда не мог угадать его возраста. Он всегда энергичен, улыбчив, доброжелателен. Откуда он черпал силы, с помощью чего выходил из сложных ситуаций, куда порой загоняла его изменчивая судьба, что всегда держало его на плаву, заставляя прямо держать спину даже тогда, когда другие сгибались? Может быть, гены, настоящие сибирские гены, которые всегда помогали крепко стоять на земле, а может быть, закалка дружной семьи, сформировавшая раз и навсегда понятие чести, трудолюбие, умение заботиться друг о друге.
Семья Кутаркиных, действительно, была замечательной. Николай родился в селе Ситовис на Алтае и был младшим из семи детей. До него родились Вера, Надежда, Мария, Леонид, Борис и Федор. После смерти отца семья переехала в Ижевск, где жили родственники. Мама устроилась на завод уборщицей металлических стружек. Большая семья жила стесненно, в однокомнатной квартире в районе Соцгорода. Все бы ничего, но беда случилась с мамой, она попала под трамвай. Николаю Александровичу до сих пор памятна картина, когда она на костылях стирает белье в холодной воде. А еще длинные очереди за ржаным хлебом по ночам. Голод… «хлебных корок насобираешь, водой запьешь и на улицу бежишь». Темные улицы… Но Кутаркины не были бы Кутаркиными, если бы рука помощи не была бы протянута своевременно.
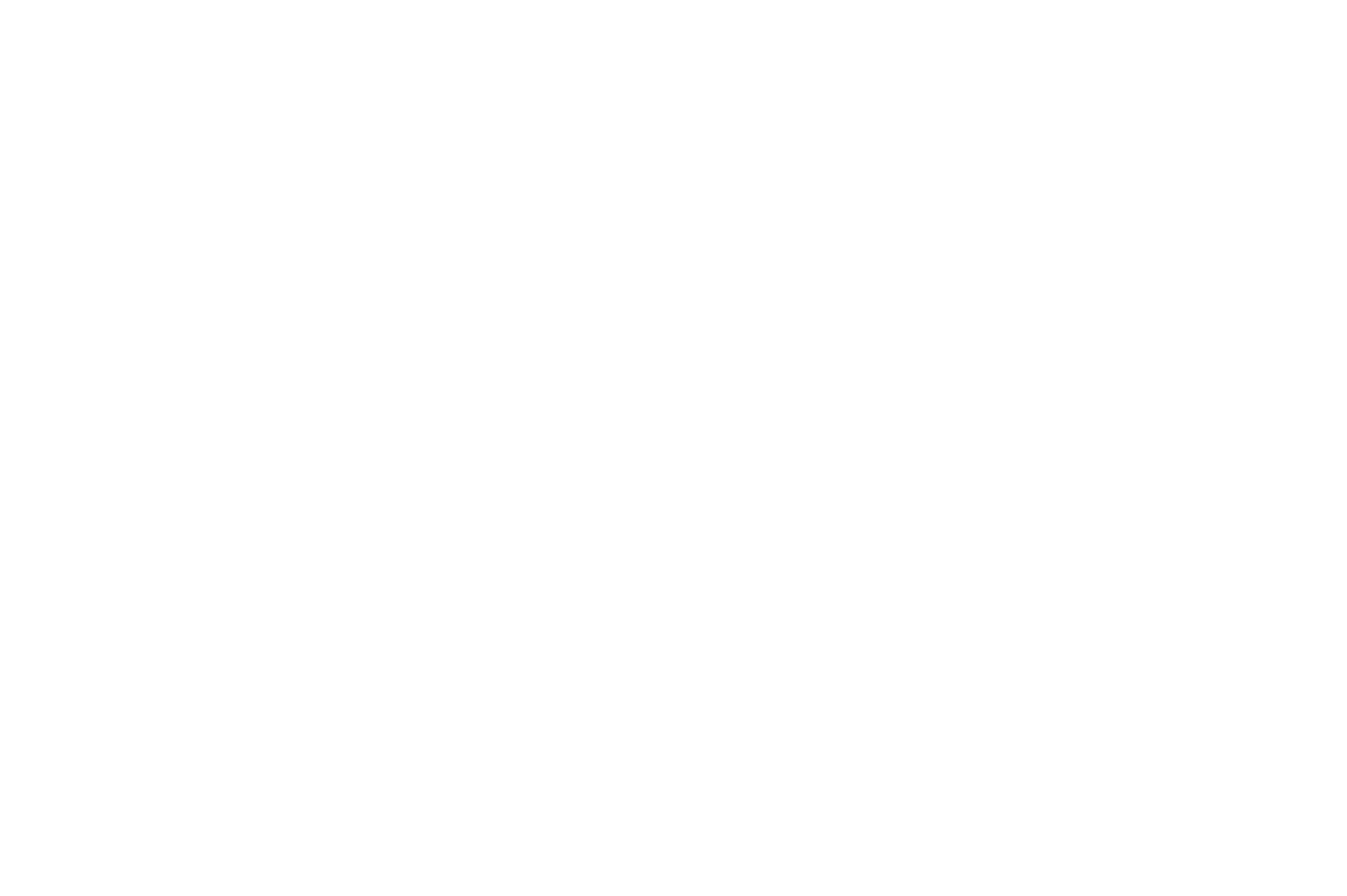
«Отрабатывал удар я на мешках с песком…»
Сестра Надежда, поступившая перед войной в Московское техническое училище гражданского воздушного флота (ГВФ), вызвала младшего брата в Москву для поступления в оркестр, который в то время создавали в училище.
“
Капельмейстер Дворкин от ГВФ проверил мой слух, чувство ритма, и меня приняли учиться на ударника. Играя на малом барабане, я сопровождал построение курсантов, их занятия по строевому шагу, да и просто будил их четким ритмом своего инструмента. У нас учились четыре монгола, австриец, итальянец - все ребята из детского дома. Когда начали репетировать, кое-кто отсеялся. Исчез куда-то австрийский мальчик, Карл, говорящий по-немецки.
“
Перед самой войной нас отправили в пионерлагерь для авиаторов в Тушино, находящийся в 40 км от Москвы. Это время запомнилось мне не только последними часами беззаботного отдыха, но и знакомством с сыном легендарного Чкалова Игорем, дружившим в лагере с мальчиком-негром. Когда началась бомбежка Москвы, нас на теплоходе, вместе с партами, эвакуировали в Горький. Там мы отдышались, но вскоре нас погрузили в вагоны и доставили в Абдулино Оренбургской области, где находились преподаватели и воспитанники нашего училища. Коллектив играл на смотре военных оркестров, где наш округ занял второе место. Капельмейстеру тогда вручили часы, а мы получили благодарность. Затем школа вернулась в Тушино, но там бомбили, и нас эвакуировали в Серпухов, где мы жили в монастыре. Нам там преподавали музыканты оркестра Большого театра, находящиеся на пенсии. А также знаменитые сестры Гнесины, пожилые дамы, одна из которых хромала.
“
Каждого из нас обучали по своему инструменту. Меня, ударника, на малом барабане. Все вроде было хорошо, но хотелось чего-то большего, и мы с сыном погибшего летчика Петровского сбежали на поезде в Москву, прослушиваться в образцовый оркестр. Но затея наша оказалась неудачной, нас вернули, наказали, посадив из-за самоволки на губу.
«Я до сих пор не могу смириться с гибелью сестры»
Как раз в это время в Серпухове находилась ремонтная мастерская, где ремонтировали По-2, на которых воевали знаменитые Гризодубова, Осипенко, Раскова. Подруга моей сестры Надежды в Тушино как раз переучивалась управлению этим боевым средством. Она и вызвала меня однажды из училища. Ласково спросила, приходилось ли мне когда-нибудь летать на самолетах. «Нет, не приходилось», - ответил я ей. «Давай, садись». Я запрыгнул в самолет, и мы полетели. Во время полета она мне сказала: «Надежда погибла». И рассказала, как это случилось.
“
Моя сестра, механик по приборам 125-го гвардейского авиационного полка имени Марины Расковой, вместе с сослуживцами летела в место расположения части. Их самолет обстреляли, и все погибли. Случилось это 15 августа 1943 года. Я до сих пор не могу примириться с ее гибелью. Сестра была замечательным человеком, добрым, честным, храбрым. И мне всегда хотелось продлить память о ней. Когда же в 1962 году родилась моя единственная дочь, я, не раздумывая, назвал её Надеждой. Надеюсь, что воспитал ее такой же.
Как красиво он работал!
После окончания школы Николай Александрович служил в эскадрильи мастером по электрооборудованию в поселке Бада Читинской области. После излечения в госпитале, демобилизовавшись, уехал в Баку, где жила младшая сестра Мария. Единственная из оставшихся в живых сестер - старшая Вера, учившая меткой стрельбе на курсах ворошиловских стрелков, умерла еще до войны.
Проработав какое-то время на одном из бакинских заводов слесарем, Николай Александрович подался на целину. Но, увы, не сложилось. Потом была Москва, женитьба на Нине, ставшей ему верным товарищем на всю оставшуюся жизнь. Переезд в 1958 году в Ижевск.
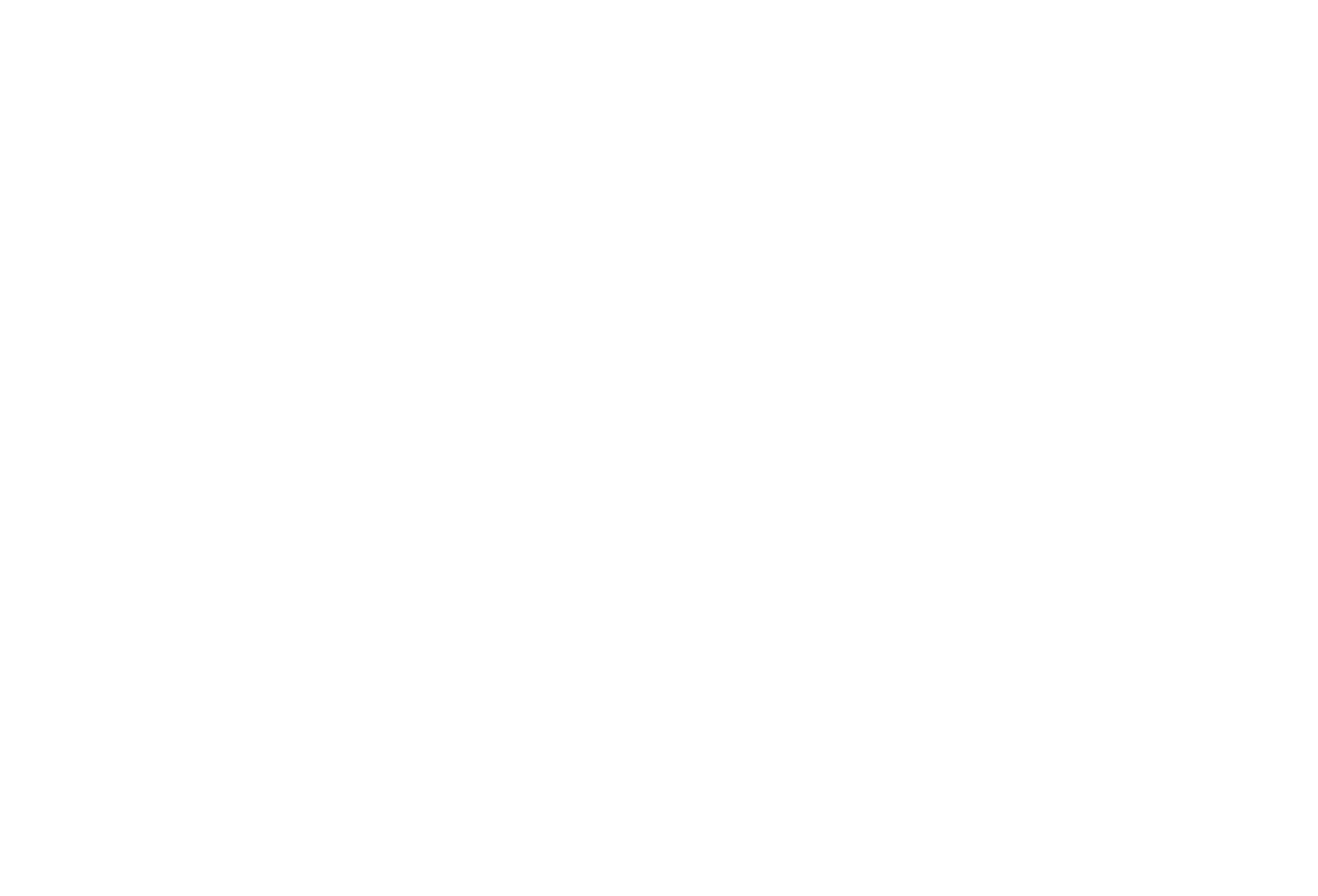
Вернувшись в Удмуртию, Николай Александрович устроился на мотозавод монтажником. Работал там недолго, но так замечательно, что его портрет был занесен на Доску почета предприятия. Также добросовестно продолжил трудиться и на ИЭМЗ, куда в декабре 1958-го перевели их цех. Выполнял план на 160-180%, сдавал продукцию с первого предъявления, внес 12 рацпредложений, позволявших изготавливать блоки в два раза быстрее. Экономический эффект от внедрения их в производство исчислялся весьма кругленькой суммой. Его труд был оценен по достоинству. Кутаркину было присвоено звание «Лучший по профессии», а фотография занесена на Доску почета предприятия. Была доверена работа с самоконтролем и личным клеймом. Присвоено звание «Отличник качества». Его имя занесено в Книгу почета предприятия. Работал он так, что залюбуешься!
Была в нем и общественная жилка: председатель ревизионной комиссии цеха, член комиссии цехкома по охране труда, активный дружинник. Инструктор по проведению производственной гимнастики. Последняя обязанность возникла совсем не случайно - всю свою жизнь Николай Александрович активно занимался бегом. Никогда не пользуясь городским транспортом, он следовал на работу… бегом.
93 неунывающих года
С 1991 года он на пенсии. В 2005-м умерла любимая жена Нина. С тех пор Николай Александрович живет вместе с дочерью. Как говорит, наступило время воспоминаний. Они, как старая кинохроника, крутятся, крутятся в голове, не давая уснуть. Детство на Алтае, ласковая улыбка мамы, четкий ритм любимого барабана, Нина, монтаж блоков, вечерний чай с дочерью… Количество картинок бесконечно, да и не удивительно - 93 года прожито. 93 калейдоскопических, насыщенных, неунывающих года.
